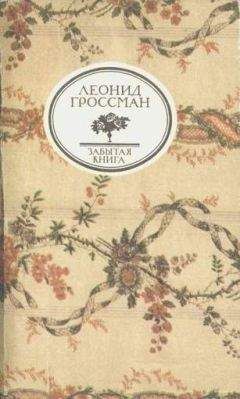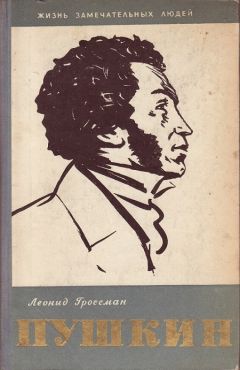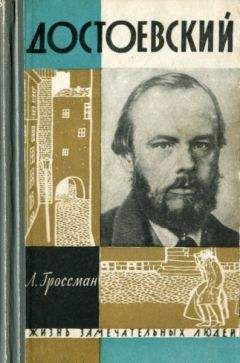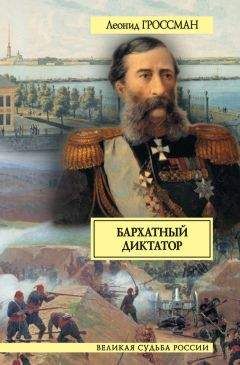Леонид Гроссман - Записки д`Аршиака, Пушкин в театральных креслах, Карьера д`Антеса
В нем самом, несмотря на тяжелую костную болезнь, сделавшую его с детства инвалидом, было много артистически изящного. Костыли не нарушали своеобразной прелести его внешнего облика. Он носил костюм сенсимонистов: бархатную шапочку, белый шарф, небрежно падающий концами на плечи, короткий синий редингот, сильно вырезанный книзу, белый жилет, черный пояс и узкие белые брюки.
Этот живописный наряд напоминал костюм эпохи Возрождения. И сам Жюль Дюверье, с его большими сияющими глазами и гладкими падающими волосами, подстриженными почти у плеч, сильно походил на известный флорентийский портрет молодого Рафаэля.
Он принадлежал к новой республиканской молодежи, и все воззрения его были смелы и неожиданны. Помнится, за три дня до назначенного экзамена, в понедельник 26 июля, мы изучали декреты Национального собрания. В бурной истории этого учреждения мне понравилось одно из первых заявлений жирондистов, смело потребовавших, еще в монархическую эпоху, чтобы титулы «государя» и «величества» были заменены более конституционным званием «короля французов»…
— Это пустой либерализм, — с ноткой холодного осуждения произнес Жюль.
— Не должны ли все мы стремиться к вольнолюбивости? — удивился я.
— Мы все должны служить новой силе — индустриализму, — с глубокой убежденностью произнес мой друг. — Необходимо противопоставить политическим фразам либералистов всю энергию действующего и производящего общества…
Эта была одна из тех поражающих мыслей, которые излагал подчас Дюверье, исходя из какой-то неведомой мне обширной и всеобъемлющей системы.
— Но кто же тогда будет управлять обществом? Не короли же? И не парламент?
Но Жюля нельзя было сбить или смутить такими вопросами.
— Вся светская власть — производителям, вся духовная — ученым, — отвечал он. — Ты хочешь знать, как будет устроено будущее общество? Оно будет индустриализовано, то есть охватывать всех производящих работников. Этот класс был до сих пор на последнем плане в нашем феодальном обществе, — он займет теперь первое место, отбросив назад военных, законоведов и собственников. Власть в новом мире будет принадлежать только разуму и труду. Мыслители и ученые заменят прежнюю религию отречения новым учением о жизни и ее творческих силах. Деизм уступит место физицизму, религии точных знаний, объединенных завоеваниями физики. Отрицательная и бездеятельная заповедь христианства: «не причиняй зла другому» — будет заменена положительным и действенным принципом; «каждый должен работать». И соединенные усилия трудящегося человечества, направляемые великими вождями точной науки, преобразят нашу планету и откроют новую историческую эру…
Мой маленький флорентиец, произнося свою проповедь, был прекрасен. Казалось, говорил не экономист и не историк, а поэт, доводящий смелый замысел социального реформатора до степени образного видения.
— Будущее человечество, — продолжал он, встряхивая свои шелковистые пряди и устремляя на меня глубокие пылающие взгляды, — будущее человечество, организованное для разумного труда, пророет каналы и туннели, воздвигнет мосты и арки, скует земной шар стальными путями, доведет технику до сказочной мощи, соединит материки и превратит всю нашу несчастную, скорбящую и болеющую землю в райский сад с волшебными чертогами. И все люди, населяющие эти подлинные поля блаженных, будут объединены великой взаимной любовью, чувством глубокого сострадания, ощущеньем всемирного братства…
Меня невольно увлекали эти вдохновенные и стройные мысли, которые отец мой выслушивал подчас с чувством снисходительного скептицизма, называя их пустыми утопиями. Философские прения Жюля с отцом представляли для меня особый интерес по странному контрасту их взаимной личной привязанности и резкой противоположности их политических воззрений. В этот день неожиданные события должны были открыть между ними ряд особенно напряженных дебатов.
VI
Из-за нашей системы усиленных занятий Дюверье оставался у меня обедать, а иногда и ночевать. В тот день, выйдя к столу, мы застали за ним отца вместе с его старым другом, известным роялистом маркизом Фуассак ла Туром. Оба они были взволнованны и с большим оживлением обсуждали последние известия «Moniteur».
Я с детства знал Фуассака и привык к нему. Это был старичок с высоким блестящим лбом и длинными пушистыми волосами, покрывавшими своими серебрящимися прядями высокий ворот его синего фрака. Верный старинным модам, он перевязывал у колен тонкими шелковыми ленточками свои короткие панталоны, никогда не изменяя белому цвету чулок и серебру больших квадратных пряжек на лакированных башмаках. Яшмовая овальная табакерка с миниатюрой Марии-Антуанетты стала неизбежной принадлежностью его беседы, постоянно вращаясь средь его пальцев, неожиданно раскрываясь перед лицом его собеседника или же с треском захлопываясь в заключение гневной фразы о бонапартистах, республиканцах или дурных советниках короля.
В последнем пункте маркиз Фуассак нередко расходился с моим отцом, который был «ультра», то есть крайним роялистом, и не допускал никакой критики ни короля, ни его министров. Принадлежность к партии трона предполагала, по его мнению, безусловное одобрение всех действий верховной власти. «Только такое совершенное и беспрекословное подчинение еще может спасти Францию», — постоянно повторял он.
Маркиз же, любя политику во всех ее разнообразных проявлениях, не мог отказать себе в удовольствии критически разбираться в мероприятиях правительства. Он считал, что дурные министры были причиной наших «несчастий восемьдесят девятого года», и отстаивал право королей на личную систему правления и неограниченные полномочия.
Вот почему каждое выдающееся событие текущей политики неизменно вызывало между ними живой обмен мнений. Так было и на этот раз.
— Это неслыханно! — негодующе восклицал Фуассак, комкая газету и снова заглядывая в нее, — свобода периодической печати отменяется, палата депутатов распускается, избирательные законы недействительны… Ведь это намеренный вызов революции!
— Король знает, что он делает, мой дорогой маркиз, и, поверьте, знает это получше нас с вами. Неужели вы думаете, что у него недостаточно войск, чтобы подавить уличные беспорядки в Париже?
— Король знает, но этого не знает Полиньяк, подсказывающий ему эти опаснейшие меры. Знаете ли вы, что журналисты подписали сегодня возмутительное воззвание, в котором осмеливаются оспаривать законность королевского правительства?
— Маршал Мармон одной батареей успокоит все парижские редакции, — невозмутимо отвечал мой отец.
— Вы шутите, виконт? Вы хотите братоубийственной бойни на улицах Парижа? Вы успели позабыть девяносто третий год?
— Это меры необходимой защиты против врагов алтаря и трона. В минуту угрозы государственному порядку они должны быть применены.
Мы с Дюверье заинтересовались этой беседой и подняли скомканный «Moniteur». Официальный отдел газеты открывался манифестом:
Мы, Карл, милостью божьей король Франции и Наварры, — всем, кто увидит настоящее, шлем поклон.
По докладу нашего совета министров мы приказали и приказываем следующее…
Мы быстро пробежали знаменитые ордонансы. Конституционная хартия действительно была грубо попрана. Старый Фуассак был прав: это звучало вызовом революции.
— Да здравствует республика! — восторженно воскликнул Дюверье.
— Ну, до республики еще далеко, — с нескрываемой строгостью заметил мой отец.
— Увы, — вздохнул Фуассак, — кажется, не так далеко, как вы полагаете. Снова повторяются непоправимые ошибки короны…
— Вы решаетесь осуждать короля, маркиз?
— Я осуждаю дурных советников монарха. Увы! Король повторяет ошибки своего несчастного брата…
И старый роялист меланхолически раскрыл свою табакерку с миниатюрой последней французской королевы…
— Напротив, — с жаром заявил отец, — я нахожу, что сегодня он начинает по-настоящему царствовать! Мы наконец слышим голос власти…
— Он призывает к государственному перевороту, к гражданской войне, к резне в Париже, — не унимался Фуассак. — Вы увидите, что все мы будем висеть на фонарях…
И портрет Марии-Антуанетты с сухим треском защелкнул табакерку. На другой день события разрастались. Мы забросили книги и решили пройтись по революционному Парижу.
Маневрирование войск еще не препятствовало свободному движению пешеходов. Огромная толпа скоплялась на бульваре Капюсин у здания министерства иностранных дел, требуя выдачи Полиньяка. В нескольких местах были разбиты и разграблены лавки оружейников.
Первым был очищен известный магазин на улице Ришелье под вывеской: